
|
Норильск вчера |
||||||
|
Удивительно, что до сих пор называют К. П. Сотникова, хотя такого... не было. Был Киприян Михайлович Сотников, урядник, сын урядника, а “по совместительству” купец, и был его младший брат Петр Михайлович. Вот кто заложил штольни (наверняка руками здешних жителей, своих “должников”) на месте, возможно, старинных разработок мангазейских рудознат цев. К. М. Сотников рудознатцем не был. Надо отдать ему должное, деятельность он развернул бурную: ездил в Енисейск, чтобы оформить заявку, в Барнаул, где знающие люди сделали анализ руды; уговорил енисейского золотопромышленника и пароходовладельца Кытманова войти с ним в компанию, а енисейского архиерея дать согласие, чтобы разобрали на кирпичи дудинскую церковь (посулил новую, деревянную, и слово сдержал); Пригласил уральца горного штейгера и организовал оленные аргиши для переброски к Норильским горам строительного материала с берега Енисея... Стены бывшей церкви пошли на кладку шахтной печи. Там их медленно “подтачивала” вечная мерзлота (дали неравномерную осадку), здесь их быстро спалил огонь: специальной футеровки не делали. Успели выплавить какихнибудь три тонны черновой меди и не без труда продать металл в казну. Этим закончилась первая попытка овладеть богатствами норильских недр. Н. Н. Урванцев застал у подножия Рудной такую картину: остатки фундамента печи (деревянный квадратный сруб, заполненный галькой); остатки срубов служебных помещений; остатки топлива и добытой руды, кирпичный лом, обломки самодельного лопастного вентилятора, служившего для дутья... Штольни сохранились, хотя устья кое где были завалены (крепь подгнила) и заплыли льдом... Па мятник дерзкому предпринимателю, которому и не могло хватить сил. Все было против него. “Памятная книжка Енисейской губернии на 1890 год” содержит еще несколько крупиц сведений о районе. Впрочем, авторы пользуются слухами. Они называют озера “Нарымскими” и ссылаются лишь на “рассказы” жителей: есть несколько гор, залежи каменного угля и медной руды, “за разработку которой в 70х годах принимался один из енисейских купцов... предприятие принесло только убытки. В 1888 году компания английского пароходства “Феникс” намеревалась заготовить... с вывозкой в Дудинку каменный уголь, но это также не имело успеха”. Александр Киприянович Сотников, представитель следующего поколения некоронованных королей Таймыра, знал об этом и не понаслышке. В угле нуждались не только англичане. Оживилось судоходство. Морями и рекой доставляли грузы на строительство Сибирской железной дороги... “Вестник золотопромышленности” за 1895 год сообщает: “На Александро Невской копи до отобрания ее от Кытманова самовольно добыто в 1894 году казаком Сотниковым до 2000 пудов каменного угля, из которого 1500 пудов приобретено... начальником гидрографической экспедиции...” Остатки добытого в Норильске топлива забрал английский капитан Джозеф (Иосиф) Виггинс. Уголь доставили, как раньше кирпич и медь, на оленьих нартах местные жителикочевники. Похоже, что личные качества Сотниковасына много уступали отцовским. Трудно представить мягкой натурой и К. М. Сотникова, “заподозрить” его в гуманном отношении к землякам, конечно же, обманывал и эксплуатировал. Но Александр Киприянович в этом отношении куда как превзошел отца. Именно его, истязателя, выжимавшего все соки из туземцев, рисует очерке “Ландур” ссыльный врач и публицист В. В. Передольский. Долго смотревшее сквозь пальцы на произвол Сотникова губернское начальство начало штрафовать его. Впрочем, к административной ссылке самодура и насильника губерния прибегла по другому поводу, его уличили в поджоге своих застрахованных домов. В Якутске коммерсант по крови он снова занялся торговлей, скупил партию кяхтинского чая... Кончил Сотников плохо: его ограбили лодочники выбросили в
Лену (возможно, в отместку за очередной обман). Намеревался продолжать норильское “дело” представитель следующего поколения семьи, студент Томского технологического института Александр Сотников младший, сын и внук первых предпринимателей. В летние каникулы 1915 года он собрал коллекцию минералов, установил новые заявочные столбы. С именем А. А. Сотникова связана последняя перед революцией попытка обратить внимание на богатства норильских гор. В 1919 году в Томске вышла брошюра “К вопросу об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменного угля и медной руды”.В этом же году А.А.Сотников еще раз побывал в “своих” местах. Вместе с А. К. Фильбертом он представлял в экспедиции колчаковское военное ведомство, а горный инженер Н. Н. Урванцев Сибирский геологический комитет” Дни Сотниковых уже были сочтены. Трагедия последнего владельца Норильских месторождений в том что он не верил в революцию, не верил в свой народ и его будущее. Он считал, что Норильск можно “поднять” только капиталами и техникой Запада. Это был человек способный, толковый, энергичный, но, увы сын своего отца, делец, предприниматель. В новой России он не видел для себя места. Сотников бежал на восток с колчаковской армией. В Иркутске его опознали, привезли в Красноярск, где он был расстрелян в 1920 году. ИЗ КРАТКОЙ “ДОИСТОРИЧЕСКОЙ” ХРЕСТОМАТИИ НОРИЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ: “Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 верст в Норильское зимовье ночевать”.Харитон Лаптев. Дневниковая запись от 19 марта 1742 г. “Река Пясинга вышла из озера Пясинскаго, которое собой узко. В лучшем месте 25 верст ширины... И все от берегов отмели велики, но токмо срединою идет глубока вода от речки, впадающей в нее. Норильской”. “Описание...” лейтенанта Харитона Лаптева, 1743 г. “Куски базальтовых пород и хальцедоновых миндальников, которые я находил между гальками Пясины, указывали на месторождение этих пород... в Норильском камне”.“Путешествие...” Александра Миддендорфа, 1860, с. 300. “За 70° с.ш. на правом берегу Енисея есть, как я слышал, угольный пласт”. “Немаловажный ресурс для морского пути на Енисей представляют залежи угля в 100 верстах от селения Дудинка... Дудинский уголь принадлежит к лучшим сортам... Сотникову пришлось послать на место угля 5 человек рабочих, а самый уголь перевезти в Дудинку на оленях... По отзыву полковника Вилькицкого, дудинский уголь можно, по качеству, сравнить с лучшим кардифом”. “Отчет...” вицеадмирала С. О. Макарова, 1897 г. “В 90 километрах от этого места Енисея находятся богатые залежи угля... Залежи эти известны уже много лет, до сих пор, однако, еще не приступлено к их правильной разработке... Нет никакого сомнения, что эти залежи угля имеют большое будущее”.Ф. Нансен, 1913 г. Чтобы понять, как далеко еще было до Норильска; приведу строки из журнала литературы, науки и народного просвещения, издаваемого в те годы в одном к сибирских центров Барнауле. “С некоторым страхом принял я предложение исследовать те места, которые находятся далеко на Севере, за пределами жизни исследовать тундры, о которых у нас нет представления... Местом я выбрал Норильские горы и то пространство, которое тянется с Норильских гор к западу до р. Енисея...”, писал Б.С. Семёнов. Московский ботаник Б. С. Семенов два лета подряд провел в экспедициях на юге Таймыра. Первое лето с женой и “ссыльным черкесом Гасаном”, второе ещё с двумя спутниками, А. Бутыркиным и И. Тюшняквым; о последнем известно, что он был студент универститета, в задание которому входило исследование планктона в Боганидском озере. Как свидетельствует Семенов, дудинцы в эти год не плавали по речке Дудинке дальше, чем за 2030 верст. На карте сорокаверстке речка была показана неточно, Норильские горы тоже, и путь к ним в первое лето так и не нашли. На двух лодках прошли несколько речек. Ботаник отметил в дневнике, что берега окружены густыми зарослями ив, что пышен травянстый покров, что встречаются огоньки, чемерица, аконнит, живокость, борщевик, герань... “Осмотрел по меридиану 50 верст, по широте 80 верст... Ставил целью... отыскание путей, по которым можно было проникнуть в центр Таймырского полуострова”. Оцените тон автора: будто речь идет о совершенно загадочном, абсолютно неизвестном районе земного шара. А был разгар лета, тепло, светло, ни пурги, ни мороза, ни ночи. Назад Далее
|

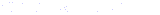
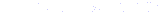

smekalin@mail.ru