
|
Норильск вчера |
||||||
|
Русского человека почему-то всегда тянуло на север. Поводы были разные – от личных интересов до интересов государственных. Среди них были люди служивые и просто искатели приключений и наживы. Как рассказывают старинные летописи и прочие грамоты, первые восточные славяне проникли на европейский север аж в VI веке. Спустя столетия новгородские купцы и бояре посылали отряды своих людей – смердов и вольных – в край вечных снегов и стылой воды для организации пушных и рыбных промыслов. Горные и рудные богатства мало интересовали первых русских землепроходцев. Их манила «мягкая рухлядь»: соболь, черно-бурая лиса, голубой песец. После основания Соловецкого монастыря (1435 год) русские пошли дальше. На ладьях-кочках они стали ходить не только вдоль морского побережья на восток, но и пускались в открытое море на север и северо-восток, открывая новые земли и острова. Так, один английский мореплаватель в XVI веке в поисках морского пути из Европы в Индию обнаружил у берегов Мурмана до 30 русских парусных ладей. А далее, у неизвестной ему земли, русские мореходы объяснили ему, что это Новая Земля. Так, из года в год, от века к веку ходили русские морем вдоль полярного побережья до Карской губы, где по воде, а где волоком, и далее – на полуостров Ямал к водам Обско-Тазовской губы. Здесь и возник вначале торговый поселок, ставший затем при царе Борисе Федоровиче городом. И назван он был -- Мангазея. К началу XVII века в городе этом более 500 жилых домов, гостиные дворы и таможня. Четыре века назад на берегу реки Таз возник поморский городок. В 1601м сюда прибыл стрелецкий отряд во главе с воеводой Мироном Шаховским, и развернулось строительство города за Полярным кругом. Поднялся над рекой кремль, издалека виднелась башня высотой в нынешний четырехэтажный дом. Крепостную стену венчали и другие башни, сторожившие посад и воеводский двор, соборную церковь и таможню, тюрьму и округу... Из глубины посада к реке шли улицы. На мостовые смотрели слюдяными окнами сруб! В них жили приказчики московских купцов и рыбаки, портные и пекари, моряки и речники, плотники и косторезы... И медеплавильщики. Да, Мангазея, средневековый город на вечной мерзлоте, златокипящий, по образном определению историка (имевшего в виду прежде все! его пушные богатства), была предшественницей Норильска.
Мангазейские металлурги пользовались норильским металлом,
норильская земля входила в состав Мангазейского воеводства.
Не погуби огонь (в 1643 году) городской архив, мы могли бы
сегодня знать куда больше о первых... норильчанах. Добывал
же ктото руду. Или, по крайней мере, искал и находил
самородну медь. Были рудознатцы, может быть, прошедшие
уральскую или алтайскую школу. Были искусные плавильщики,
литейщики с незаурядным художественным вкусом. Известный историксеверовед М. И. Белов называет сороковые годы 17 века временем интенсивного развития мангазейского медеплавильного дела. Так и хочется (условно) привязать рождение мангазейского металла к году 1642му: триста лет спустя, в 1942м родился норильский металл. Мангазея отстроилась после страшного пожара, но вот по указу царя Алексея Михайловича стрелецкий гарнизон перебрался в Туруханское зимовье (1672), и стало гаснуть солнце Мангазеи. Мангазейцы построили новый город у впадения Турухана в Енисей Новую Мангазею. А в зимовье Дудино на пути из старой Мангазеи к Норильским горам жизнь не погасла. Оставил о себе добрую память мангазейский пятидесят ник Иван Сорокин. Это он в 1667 году “генваря в 9 день” сообщил мангазейскому воеводе Родиону Павлову, что ставит зимовье “с нагородней край (нагорной стороны) Енисея пониже верхныя Дудины реки”. Все говорило о том, что русские люди пришли на Север раз и навсегда. Мангазея дала возможность постепенно проникать все дальше и дальше на восток, в пределы Таймырского края, по пути осваивая впадавшие в моря реки большие и реки малые. Земле проходцы расширяли районы поисков. Мангазейские рудознатцы закладывали исследовательские и промышленные шпольни. Как промежуточный итог – был создан рудный двор, где велась плавка медной руды на медь. Добывался уголь, которого в этих местах оказалось предостаточно. Время выделило и оставило на скрижалях истории первые русские имена, без которых не было бы истории сегодняшней. Это торговый человвк Кондратий Курочкн и стрелец Иван Сорокин, с чьимь именами связывают основание селения Дудинка. Енисейский казак Михаил Стадухин «со товарищи» прошел по Енисею до Туруханска, затем по Нижней Тунгуски вплоть до верховьев, откуда волоком пробрался на реку Вилюй, по которой сплыл до реки Лена. А там спустя, два года казачий сотник Петр Бекетов основал Якутский острог. Их поиски, словно эстафету, продолжил якутский казак Семен Дежнев, который обогнал северо-восточную оконечностъ Азии, названную а сегодня в его честь мысом Дежнева. Так за неполные полвека, существования Мангазейского острога, русские люди прошли все северное побережье Сибири, протяженностью свыше 6000 километров, вплоть до Западных берегов Америки. Сибирь Заселялась. Но экономическое ее развитие могло опираться только на богатства ее недр. Природные же богатства этого района словно дразнили заезжих людей. В районе реки Норильской, которая пробила себе дорогу сквозь дико-романтические скалистые хребты, называемые Норильскими Камнями, склоны гор были изукрашены обнаженными угольными пластами: на, бери меня! 26 ноября 1842 года из российской столицы выехал человек, которому суждено было первому из ученых стать открывателем Таймыра. Ему мы обязаны словом “Таймыр” и первыми фундаментальными сведениями о полуострове. Его звали Александр Миддендорф. Петербуржец, он семнадцати лет поступил в Дерптский университет и в двадцать три получил степень доктора медицины. Ко времени экспедиции на Таймыр ему исполнилось двадцать шесть. Ради путешествия в “землю неведомую” он отказался от кафедры в Киеве, где преподавал тогда зоологию. Будущий академик был призван отве тить на вопрос, есть ли жизнь между Пясиной и Хатангой. “Есть ли жизнь на Марсе?” сегодня звучит куда менее таинственно. 4 апреля 1843 года Миддендорф и его спутники лошадей сменили на собак, в устье Курейки собак на оленей. Числа 10го апреля прибыли в Дудинское, или Дудино. На путь из Москвы без отвлечения и отдыха ушло примерно 80 дней. Неблизкий путь. Он и сегодня, если не самолетом, а по железной дороге и енисейским зимникам, занял бы добрых дней восемь. Ко времени экспедиции Миддендорфа целое столетие прошло “с тех пор, как Лаптеву с Челюскиным с невыразимыми трудами и опасностями... удалось снять берег Таймырского края”. Миддендорфу предстояло исследовать внутренний Таймыр. “Пройдет, может быть, еще столетие, прежде, нежели другой странствователь решится нарушить тишину этих пустынь с намерением приумножить сведения...” Он имел основания так ду мать. Его слова о “тупейших чиновниках в столице, тормозящих ход государственных дел заставляют вспомнить хрестоматийно показательный по своему невежеству ответ генераладъютанта Н. В. Зиновьева на предложения другого патриота Севера М. К. Сидорова: “Так как на Севере вечные льды и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы не мыслимы, то... необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства, а Вы хлопочете наоборот и объясняете о какомто Гольфштреме, которого на Севере быть не может. Такие идеи могут проводить только помешанные”. Миддендорф имел в виду и другое, когда писал, что, может быть, через столетие ктонибудь нарушит тишину тундр: суровее Таймыра на планете Земля только Антарктида. И во времена Челюскина, и во времена Миддендорфа на зимовку в районе Норильска отваживались лишь местные жители, которых насчитывалось несколько тысяч на весь полуостров долган, ненцев, нганасан, эвенков и потомков мангазейских казаков. Но любая экспедиция грозила зимовкой... Почти четвертью века позже Миддендорфа западный и южный Таймыр привлек экспедицию Сибирского отдела Географического общества, которую на исходе 19 века подробно описал П. П. СеменовТянШанский . В начале 1866 года енисейские золотопромышленники П. И. Кузнецов, И. А. Рябиков, Н. П. Токарев и И. А. Григорьев пожертвовали средства (1800 рублей) на изучение Севера губернии. Уточнить карту среднего и нижнего Енисея, нанести на нее полезные ископаемые таков был социальный заказ. Руководить Туруханской экспедицией (так она звалась) было поручено горному инженеру И. А. Лопатину. В ее состав вошли П. А. Лопатин (фотограф, студент, младший брат начальника), И. Е. Андреев (топограф), Ф. П. Мерло (метеоролог, ссыльный поляк), А. П. Щапов (этнограф, остался работать в Туруханске). В Дудинке к экспедиции присоединились Ф. Б. Шмидт и сопровождавший его препаратор Савельев, которые прибыли на Таймыр еще по зимнику и дожидались экспедиционного парохода. Геолог и географ Иннокентий Александрович Лопатин родился (2 февраля 1839) и умер (15 ноября 1909) в Красноярске. Он окончил Корпус горных инженеров в Петербурге (1860) и работал на Селенге, Витиме, Чулыме, Подкаменной Тунгуске, Ангаре, в Уссурийском крае и Сахалине (доказал промышленное значение угольных месторождений южного Сахалина). И дудинский купец К. П. Сотников, побывав не один раз в Норильске, Заявил месторождение угля и медной руды аж в 1865 году. Но, будучи в основном скупщиком пушнины, а не промышленником, так и не сумел наладить новое для себя дело. Хотя попытка была сделана основательная: у подножия горы "Рудная, в месте выхода медистых сланцев, были заложены две небольшие штольни да выстроена шахтная печь, благодаря которой было выплавлено около 200 пудов черновой меди... Оставим в стороне все детали полевого сезона 1866 года на Бреховских островах и в селе Толстый Нос, на реке Гыде, куда Шмидта командировала Академия осмотреть остов мамонта, и на реке Курейке, где Лопатин знакомился с месторождениями угля и графита, открытыми М. К. Сидоровым... Кому особенно повезло той весной, так это дудинскому уряднику Киприяну Михайловичу Сотникову: гости знали толк в делах, ин тересовавших его не по службе. Федор Богданович Шмидт геолог, палеонтолог и ботаник
оказался в Дудинке раньше Лопатина, и Сотников его уговорил
дождаться вскрытия Енисея, чтобы продолжать путешествие
рекой, а пока, мол, здесь близко, верст восемьдесят,
есть чем заняться: прошлой осенью заявку сделал... Шмидт впервые в научной литературе сказал о богатствах Норильска. Ученый видел руду, содержащую, судя по его отчету, до пяти процентов меди. Кроме весенней, по снегу, поездки к Норильским горам, он отправился к ним еще раз, 46 сентября, т. е., по всей вероятности, до первого снега, и сумел лучше, чем в начале июня, рассмотреть угольный пласт горы (нынешней Шмидтихи) и выходы руды в непосредственной близости от нее. И. А. Лопатин не ездил к Норильским горам, но и в Дудинке мог держать в руках образцы сланцев из сотниковской коллекции, пропитанные медной зеленью. Во всяком случае, за три года до выхода в свет шмидтовского отчета в отчете Сибирского отделения Географического общества (1869) сказано, что Лопатин посоветовал Сотникову организовать разработку медной руды Норильска. Новый этап освоения правобережья Енисея начался в 1919 году. Время сложное, бедное, голодное. В изумительный ряд достославных имен первопроходцев встало еще одно -Николай Николаевич Урванцев. В 1919 году к заявочному столбу на западном склоне горы, теперь именуемой Рудной, подошли Н. Н. Урванцев и его спутники. По следу сотниковского ножа на затесе легко читалось: “К. П. С. 1865 г. сент. 1 д.”. Надпись расшифровали так: поставил К. П. Сотников в 1865 году, сентября 1 дня. |

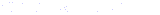
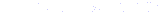

smekalin@mail.ru